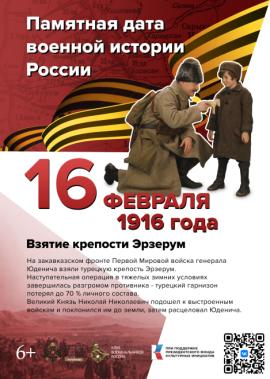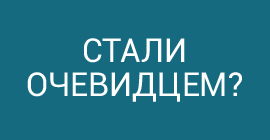Продолжаем публиковать отрывки из воспоминаний К.И. Яковлевой о жизни в сибирской глубинке во время её эвакуации из блокадного Ленинграда.
КРОТОВСКИЕ ВЕСЕННИЕ ДЕЛА И ЗАБОТЫ
"Вернусь теперь опять в Кротово. Приближался март 1943 года. Начинается основательная заготовка дров в лесу на всю зиму. Берём пилы, топоры и идём бригадой. Возглавляла её почти всегда Елена Ивановна. Сначала неумело, но постепенно эту заготовку дров выполняем как привычное дело. На это уходило у нас недели две. Напиленные там дрова складывали в поленницы, а подвозить их уже будет колхоз летом.
БЕГЛЕЦЫ
Насколько велика была тяга детей к Елене Ивановне – мы убедились однажды, на одном любопытном факте. Было раннее апрельское утро 1943-го. Я спешу в интернат. Но что такое? На пороге дома, тесно прижавшись друг к другу, спят три фигуры. "Что такое?" – опять мысленно спрашиваю себя. Интернат ещё закрыт. Было что-то около семи утра. "Неужели это наши ребята? И почему же они здесь? Кто же, всё-таки?" Их лиц я не могу разглядеть – на глазах у всех троих низко надвинуты шапки-ушанки, одеты в наши обычные серые куртки. Окликаю спящих – каково же моё удивление, когда я увидела, что на меня смотрят знакомые лица, но они не наши, не кротовские… Смотрю и не верю своим глазам – передо мной Вадим, Вовка Васильев, Ким Никольский – все они из Малиновского интерната. Пришли пешком за сорок километров, где-то бежали от волков. "Откуда? Как вы сюда попали? Что случилось?" – интересуюсь. И слышу: "А мы к вам… Не хотим в Малиновке, хотим к Елене Ивановне… Где она? Мы хотим с ней поговорить".
НАША ТАИСИЯ ИВАНОВНА
Однажды утром прихожу в интернат и вижу – наша милая Таисия Ивановна моет полы в нашем большом коридоре. Спрашиваю у неё: "А где же Мария Николаевна? И почему Вы здесь в такой ранний час? И почему вдруг моете у нас полы?" По озабоченному лицу Таисии Ивановны вижу, что произошло какое-то ЧП. Женщина отрапортовала: "Леночка заболела, врача нет. Я подозреваю у неё брюшной тиф. В изолятор её брать не хочу, там у меня все лёгкие больные. Обещал приехать Горев, я ему звонила, а пока, дорогая Ксения, я прошу вас очень следите, чтоб в эту комнату к Леночке никто не заходил… Она в комнате одна, девочек всех перевела в группу. Пол я у неё в комнате уже помыла, лекарство дала…" На ходу крикнула: "Ну и так, чистота, чистота, и ещё раз чистота! Ксения, я надеюсь на Вас", – и с этими словами она убежала по другим своим объектам: кухне, дошкольной группе, изолятору, столовой… И ещё у неё была одна тяжелейшая нагрузка, которая требовала её постоянного надзора, ухода, питания. Это мальчик-инвалид, ходивший на костылях, умственно отсталый пятнадцатилетний Коля Колтунов. Я помню Таисию Ивановну в серой куртке, платочке голубого цвета и кирзовых сапогах. А снимала ли она с себя куртку и сапоги, и когда она это делала – я так и не знала, не знаю и до сих пор.
Я ОПЯТЬ НЕ В СТРОЮ. ВСТРЕЧА С ПРОШЛЫМ
Ноябрь 1943 года. Зима в самом разгаре. Морозы крепкие. Снег, кажется, занёс всё, что было нужно и не нужно. Сугробы выше головы! У меня болит локоть, ушибленный в лесу ещё на заготовке дров. Появляются нарыв, температура. Рука начинает пухнуть. Ложусь в общий изолятор за занавеску, Таисия Ивановна делает мне ванны, после них становится плохо. Терплю очень сильные боли в локте. Случайно (для меня это была крайне счастливая встреча) появляется в изоляторе военный врач, приехавшая с фронта навестить свою дочь Риту Уржунскую. Привела её Таисия Ивановна ко мне для консультации. Врач смотрит меня, и… на следующий день, часа в четыре, мы были в Аромашевской больнице. Осмотр хирурга и срочная операция. "Ещё немного и было бы общее заражение", – говорит Горева. Флегмона локтевого сустава – таков диагноз. Общий наркоз, тарелка гноя, перевязка. Я спасена! О нет, это только спасительная операция от общего заражения. Начинаю работу в группе. Перевязки с риванолом, что делает мне Таисия Ивановна – не помогают. Мне не лучше, рана не затягивается и нарывает снова. Рука воспалена, и опять в Аромашево, на этот раз я поехала с Еленой Ивановной. Это был декабрь 1943 года.
Приехав в Аромашево, убедились, что в больницу идти уже поздно. Решили сходить в кино, потом заночевать у знакомых. Хотя рука страшно болела, но вечер всё равно девать было некуда. Сидим в кино. И вдруг… Ко мне в объятья бросается паренёк и горячо целует. Я удивлённая: "Что такое? Неужели это ты, Саша?!!" Да, это он, пятнадцатилетний Саша Крамич, который тогда, 22 июня, первый объявил нам о начале войны. Так мир оказался тесен.
ОПЯТЬ ИНТЕРНАТ
Ходят слухи о какой-то реорганизации. Часть воспитанников, окончивших школу, уехали в Омск, в ФЗO. С ними наши Коля Макаров, Ким Никольский, Лена Фёдорова, Лена Гумовская и другие. Узнаём, что интернат будет детским домом. Ну, а пока всё то же – литературные вечера, беседы, разбор конфликтов и какое-то страшное одиночество, тоска по уехавшим ребятам, нашим старшим и хорошим помощникам.
Напомню один из наших вечеров с тем, чтобы потом сразу перейти к следующей главе – о директоре. Итак, вечера были самыми тяжёлыми. Читаем, рассказываем до полного опустошения в голове. Скорее бы уснули. Скорее бы и самой лечь. Всё. Как будто тихо. Ухожу. Спать, только бы спать. Но вдруг в спальнях опять шум, опять разговоры. Но время позднее и, услышав всё это, и видимо жалея нас, выходит из своей комнаты Елена Ивановна и направляется в спальни. Наш директор берёт бразды правления в свои руки.
НАШ ДИРЕКТОР
Она входит в спальню тихо. Очень тихо. Становится у печки. Она в своей серой куртке, валенках, руки в карманах. Ребята ещё издали чувствуют её приближение, и по рядам проносится: "Тише, гольцы… Елена идёт". Она входит и начинает свой "воспитательский час". У неё проницательный, жутко проницательный взгляд. Ребята его чувствуют на расстоянии в темноте. Сразу в спальне наступает мёртвая тишина. У неё, кроме взгляда, ещё и высокий лоб, и мудрые мысли, и веские слова. Её диапазон велик: от знания литературы и искусства, до проникновения в умы и души самых трудных ребят, от мудрости педагога до составления меню, порой из ничего, для своей большой интернатской семьи.
ПЕРЕМЕНЫ
Как я уже говорила, в эту зиму от нас убывали старшие дети – кто в Омск, кто в Ишим на учёбу в ФЗО. Таково было распоряжение области, а может даже и Москвы. Детей у нас становилось значительно меньше и вот, наконец, ранее доходившие до нас слухи и превратились в приказ: на базе нашего интерната организуется детский дом, а оставшиеся дети вместе с воспитателями переводятся в интернат № 111 в Малиновке.
Это всё случилось в конце февраля 1944 года, и некоторое время мы числились уже как детдомовские работники. Прибыла и директор нового детдома Чистякова, местная учительница. Я приняла приказ о возвращении в Малиновку радостно, но основные воспитатели интерната – Ванченко, Номан, Попова, Грачёва – решили остаться в Кротово и работать в детдоме.
Наш директор Е.И. Яковлева была переведена в Малиновку на должность директора интерната № 111. Там, после увольнения Дмитриевой, эту работу выполняла З.А. Ильина. Видимо, руководители решили, что будет разумно нас вернуть к тому коллективу, с которым мы уезжали из Ленинграда. Да и вести с фронта стали приходить более радостные".
С. СТЕПАНЮК: Далее Ксения Ивановна описывает путешествие по оттаявшей дороге из Кротово в Малиновку, гостеприимных татар, угощавших их кониной, и свои радостные чувства от предвкушения встречи с полюбившейся ей Малиновкой, ставшими родными ребятами и преподавательским составом. О том, как за делами и заботами незаметно пролетело время, и уже началась подготовка к реэвакуации, а интернат продолжал жить уже привычной жизнью, и весной уже нужно было начинать готовиться к зимовке. Радостные сигналы о скором отъезде поступают один за другим, и этому в её воспоминаниях уже уделяется всё больше и больше внимания.
НАРЯДЫ
"Начинались с наступлением лета наши обязательные летние работы. С ними связано у меня много трудностей, но они оставили хорошее воспоминание надолго. Думаю, что такое же чувство сохранили и ребята. Что же это были за "наряды"? Обычно их давала директор перед завтраком, объявляя, куда какая группа должна после завтрака идти и что делать. Для моей группы младших мальчиков это были – сбор лекарственных трав, прополка, сбор хвороста в тайге, сбор лебеды и крапивы для кухни, окучивание, сбор ягод для киселя. Ещё мы ходили на сенокос ворошить сено, были и другие поручения. Самыми любимым нарядами были те, которые были связаны с походом в лес. При этом детей не пугала никакая погода. В тайгу приходилось ходить ежедневно.
Но! Как и везде в Сибири большие огорчения нам приносили комары. Их было множество, и они были разных размеров и калибров. Тучей поднимались над нами и забирались всюду – в глаза, рот, волосы… Сил никаких не было с ними бороться. Но! Всё это было вначале, в 1942-м. Шло время. То ли мы к комарам, то ли они к нам попривыкли. Не так они стали нас донимать, всё меньше и меньше было от ребят жалоб на их укусы. Со временем так привыкли, так с ними подружились, что я, например, все последние годы проходила по тайге босая. А комары здесь одни сменяли предыдущих, и так до самых холодов. Не деревне жгут навоз и этим спасаются от них. Конец лета. Едим свои свежие овощи, и они заменяют надоевшую лебеду и крапиву. В меню появились и капуста, и морковь, и редиска, и зелёный лук".
Продолжение следует.
Другие материалы рубрики Общество
В Тюменской области фиксируется рост числа впервые выявленных случаев полной потери зрения.
Такие данные редакции «МегаТюмени» приводит Департамент здравоохранения Тюменской области.
Александр Моор в День памяти воинов-интернационалистов обратился к тюменцам, выполнявшим свой долг за пределами страны
Уважаемые воины-интернационалисты, ветераны боевых действий! Дорогие земляки! Ежегодно 15 …
Тюменским кадетам рассказали об антитеррористической безопасности
Сотрудники СОБР «Сова» управления Росгвардии по Тюменской области провели день открытых дверей на базе спецподразделения для кадетов специализированной профильной группы ведомства «Монолит», воспитанников детского морского центра «Алый парус».
Тюменские автоинспекторы продолжают борьбу с "бесправниками"
Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области проведут дополнительные рейды по выявлению на дорогах региона водителей, управляющих транспортом, не имея водительских удостоверений.